Лишь в Марокко
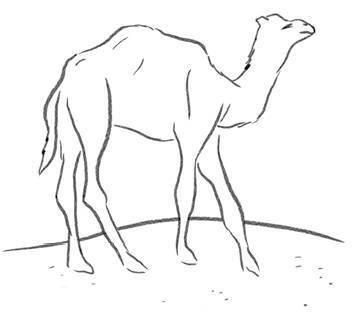
Что любит верблюдица? Я бы сказал, ничего на свете. Ни песок, который скребет ее бока, ни солнце, которое припекает ее сверху, ни воду, которую она пьет, как истая трезвенница. Ни сидеть, хлопая ресницами, как старлетка. Ни вставать, со стонами гнева и возмущения разгибая ноги-веточки. Ни своих собратьев, на которых она взирает с презрением богатой наследницы, вынужденной лететь эконом-классом. Ни людей, которые ее поработили. Ни океаническое однообразие дюн. Ни безвкусную траву, которую она жует, жует, жует в угрюмой борьбе за выживание. Ни адский день. Ни райскую ночь. Ни закат. Ни рассвет. Ни солнце, ни месяц, ни звезды. Ни тем более увесистого американца, несмотря на пару лишних фунтов сохранившего недурную для своих лет фигуру, высокого, качающегося из стороны в сторону, пока она бесцельно везет его, этого человека, этого Артура Лишь, через Сахару.
Впереди: проводник по имени Мохаммед в длинной белой джеллабе[95] и синем тюрбане; Мохаммед ведет ее под уздцы. Сзади: остальные восемь верблюдов из их каравана. На тур с ночевкой в пустыне подписались девять человек, однако из девяти верблюдов заняты только четыре; после отъезда из Марракеша они потеряли уже пятерых туристов. Скоро потеряют еще одного.
Сверху: Артур Лишь, также в синем тюрбане; он любуется дюнами, на чьих гребнях кружат маленькие песчаные вихри, наслаждается бирюзово-золотой палитрой заката и радуется, что в день рождения хотя бы не будет один.
За пару дней до этого: продрав глаза, Артур Лишь обнаруживает, что приземлился в Африке. Все еще потрескивая от шампанского, прикосновений Хавьера и весьма неудобного места у окна, он плетется под небом цвета индиго на паспортный контроль, где его ждет очередь, выходящая за грани разумного. Французы, столь степенные у себя на родине, ступив на землю бывшей колонии, разом посходили с ума; так мы теряем рассудок при виде бывшего возлюбленного, с которым плохо обошлись; игнорируя очередь, они снимают ленты между аккуратно расставленными стойками и воинственной толпой идут на Марракеш. Марокканские таможенники в зеленой с красным униформе коктейльных оливок невозмутимо проверяют и штампуют паспорта; похоже, они такое видят каждый день. Когда мимо Лишь грубо проталкивается француженка, с его губ невольно срывается: «Мадам! Мадам!» Она с гримасой пожимает плечами (мол, c’est la vie![96]), продолжая двигаться вперед. Может, началось какое-то вторжение? Или это последний рейс из Франции? Если так: где же Ингрид Бергман?[97]
Пока он топчется в толпе прибывших (хотя там одни европейцы, он среди них самый высокий), его все больше охватывает паника.
Он мог бы остаться в Париже или хотя бы задержаться там еще на денек (получив еще шестьсот евро); он мог бы променять это глупое приключение на другое, и того глупее. «Артур Лишь должен был отправиться в Марокко, но повстречал в Париже испанца, и с тех пор его никто больше не видел!» – передадут Фредди. Но если об Артуре Лишь что-то и можно сказать с определенностью, так это то, что он всегда следует плану. Поэтому он здесь. И он хотя бы не будет один.
– Артур! Решил отпустить бороду? – Зал прибытия. Его старый друг, неунывающий Льюис Делакруа. Длинные волосы цвета потускневшего серебра, на подбородке – жесткая белая щетина; одет с иголочки в лен и хлопок серых тонов; на полном лице – плодородная дельта капилляров; Льюису без малого шестьдесят, и Артуру Лишь до него еще далеко.
Лишь нервно улыбается и проводит по бороде рукой.
– Мне захотелось… чего-то новенького.
Не размыкая объятий, Льюис отходит на шаг, чтобы получше его разглядеть.
– Очень сексуально. Пойдем, тебе нужно под кондиционер. Тут стоит аномальная жара, даже ночью сплошное мучение. Обидно, что задержали рейс, да еще на целый день! Ну как, успел влюбиться за четырнадцать часов в Париже?
Удивленно покосившись на Льюиса, Лишь говорит, что созвонился с Александром. Что Алекс пригласил его на званый ужин, а сам так и не пришел. О Хавьере – ни слова.
– Хочешь, можем поговорить о Фредди, – предлагает Льюис. – А можем и не говорить.
– Давай лучше не будем.
Его друг кивает. Это тот самый Льюис, с которым он познакомился во время турне по Америке после колледжа, тот самый Льюис, который приютил его в своей дешевой квартирке над коммунистической книжной лавкой на Валенсия-стрит, тот самый Льюис, который познакомил его с электронной музыкой и кислотой. Красавчик Льюис Делакруа, такой взрослый, такой уверенный в себе; тогда ему было тридцать. Их с Лишь разделяло целое поколение; теперь же они, по сути, ровесники. И все-таки Льюис всегда был более зрелым; они с мужем уже двадцать лет вместе: воплощение счастливой любви. При этом Льюис – персона гламурная: взять хотя бы эту роскошную экспедицию в Сахару. Поездка затевалась в честь дня рождения – но не Артура Лишь, а некой Зоры, которой, по словам Льюиса, тоже стукнет пятьдесят.
– Я бы посоветовал тебе выспаться, – говорит Льюис, когда они садятся в такси, – но в отеле никто не спит. Пьют с самого обеда. И еще бог весть что творят. Я виню во всем Зору; ну, ты с ней познакомишься.
Первой пала актриса. Возможно, все дело в бледном марокканском вине, которое бокал за бокалом наливали за ужином (на крыше съемной виллы, риада, с видом на минарет мечети аль-Кутубия, подобный вздернутой руке ученика); а может, в джин-тониках, которые она заказывала после ужина, когда, сбросив одежду, окунулась в бассейн (персонал риада в лице двух марокканцев по имени Мустафа молчал), где черепахи глазели на ее бледную плоть, мечтая вновь стать динозаврами, пока она плавала на спине, рассекая водную гладь, а другие постояльцы продолжали знакомиться (был тут и Лишь, со штопором в руках и бутылкой вина между ног); или в текиле, которую она обнаружила чуть позже, когда кончился джин, и после которой исполняла импровизированный танец с лампой на голове под звуки гитары и визгливой флейты, которые кто-то откопал непонятно где, пока наконец ее не вывели из воды; или в виски, которое ходило по кругу; или в гашише; или в сигаретах; или в трех громких хлопках из соседней резиденции, где живет принцесса, – знак, что пора закругляться. В чем причина, мы уже не узнаем. Известно одно: наутро она не может встать с постели; голая, она просит выпить, а когда ей приносят воды, отталкивает руку со стаканом и кричит: «Несите водку!» – и потому что она не хочет двигаться, и потому что отъезд назначен на полдень, и потому что две ее последние картины в сомнительном вкусе, и потому что никто, кроме именинницы, о ней даже не слышал, группа поручает ее заботам двух марокканцев по имени Мустафа и уезжает без нее.
– Она оклемается? – спрашивает Лишь.
– Ни за что бы не подумал, что ее так развезет, – говорит Льюис, поворачиваясь к нему в гигантских солнечных очках; в них он смахивает на ночного зверька. Они едут в небольшом автобусе; из-за дьявольской жары мир за окном поблескивает, как раскаленный вок. Пассажиры утомленно развалились в креслах. – Я-то всегда считал, что актеры выкованы из стали.
– Прошу все! – говорит в микрофон гид по имени Мохаммед – невысокий марокканец с длинными кудрявыми волосами, в джинсах и красной рубашке-поло. – Сейчас мы отправляемся через Атласские горы. Они, как у нас говорят, подобны змее. Вечером мы приезжаем в [треск микрофона], там у нас ночевка. Завтра – долина с пальмами.
– А я думал, завтра – пустыня, – отзывается мужчина с британским акцентом – компьютерный гений, который в сорок лет отошел от дел и открыл отель в Шанхае.
– О да, я обещал пустыня! – На вид Мохаммеду от сорока до пятидесяти; он часто улыбается и редко следит за грамматикой. – Прошу прощений за неприятный сюрприз с погодой.
С задних рядов доносится женский голос: скрипачка-кореянка.
– Можно включить кондиционер?
Обмен репликами на арабском, и вентиляторы начинают гонять по салону теплый воздух.
– Мой друг говорил, работает на полную, – улыбается Мохаммед. – Но, оказывается, было не на полную.
Средство это не приносит прохлады. Выезжая из города, они обгоняют группы школьников, идущих домой обедать; дети накидывают на головы рубашки и прикрываются учебниками, защищаясь от беспощадного солнца. Целые мили глинобитных стен, а в промежутках – оазисы кофеен, откуда глядят вслед автобусу мужчины. Вот пиццерия. А вот недостроенная заправка: «Африква». Посреди пустоши им попадается осел, привязанный к телефонному столбу. Водитель включает музыку: завораживающие ритмы гнауа[98]. Льюис, похоже, уснул; в этих очках не угадаешь.
Таити.
– Я всегда мечтал побывать на Таити, – сказал Фредди на одной вечеринке на крыше. В основном там была молодежь, но попадались и особи постарше, сверлившие друг друга хищными взглядами; Лишь не знал, как подать им сигнал, что в этом стаде газелей он вегетарианец. Моему последнему бойфренду, готов был сказать он, уже за шестьдесят. А может, их тоже интересовали мужчины в летах. Этого он так и не узнал; они избегали его из какого-то поистине магнетического отвращения. Рано или поздно на таких вечеринках заскучавшего Фредди прибивало к нему, и последние пару часов они проводили вдвоем, за разговорами. На этот раз – вероятно, под влиянием текилы и заката – Фредди заговорил о Таити.
– Звучит неплохо, – сказал Лишь. – Но, по-моему, там одни курорты. Никакого местного колорита. Я бы поехал в Индию.
– Ну да, там местного колорита хоть отбавляй, – пожал плечами Фредди. – Говорят, только он там и есть. Помнишь нашу поездку в Париж? Музей Орсе? А, да, ты же болел. Ладно. В общем, там был зал с деревянными скульптурами Гогена. И на одном панно он вырезал: «Будьте загадочными». А на другом: «Любите и будете счастливы». По-французски, конечно. Это меня очень тронуло – больше, чем его картины. Такие же панно он сделал для своего дома на Таити[99]. Нормальные люди едут туда ради пляжей. А я мечтаю увидеть его дом.
Лишь хотел что-то ответить – но в эту минуту солнце, скрывавшееся за холмами Буэны-Висты[100], озарило окутанный туманом залив, и Фредди поспешил к парапету. После того вечера Лишь больше не вспоминал о Таити. А вот Фредди явно вспоминал.
И сейчас он должен быть именно там. Ведь у них с Томом медовый месяц.
«Любите и будете счастливы».
Таити.
Вскоре от группы отбивается еще несколько человек. С одной остановкой (в придорожной забегаловке с гипнотической мозаикой на стенах) они доезжают до Айт-Бен-Хадду, высаживаются из автобуса и дальше идут пешком. Лишь бредет за пожилой парой – военными репортерами, которые развлекали его вчера байками о Бейруте восьмидесятых, где в одном баре был какаду, научившийся имитировать звуки падающей бомбы. Она – роскошная француженка с белым каре и в ярких хлопковых брючках, он – высокий усатый немец в жилете фотографа; эти двое прилетели из Афганистана, чтобы смеяться, курить и разучивать новый диалект арабского. Весь мир у их ног; им все нипочем. Артура Лишь догоняет именинница, на ней короткое желтое платье с длинными рукавами: «Артур, я страшно рада, что ты прилетел». Невысокая, но пленительная, с длинным носом и большими блестящими глазами византийской Богородицы, Зора обладает особой, экзотической красотой. Каждое ее движение – опирается ли она на спинку кресла, отбрасывает ли с лица прядь волос, улыбается ли кому-то из друзей – исполнено решимостью, ее взгляд – открытый и пытливый. Разговаривает она с причудливым – не то британским, не то мавританским, не то баскским или венгерским – акцентом, и, не скажи ему Льюис, что она родилась в Марокко, а ребенком переехала в Англию, сам бы он ни за что не догадался. Это ее первая поездка на родину за десять лет. Понаблюдав за ней, Лишь заметил, что в кругу друзей она вечно смеется, вечно улыбается, но, когда думает, что никто не смотрит, по ее лицу пробегает тень глубокой печали. Ум, стиль, изобретательность, тонизирующая прямота и привычка сыпать непристойностями – у этой женщины есть все задатки, чтобы возглавить международную шпионскую сеть. Впрочем, кто знает, может, этим она и занимается?
И главное: никто не дал бы ей не то что пятидесяти, даже сорока. По ней ни за что не скажешь, что она пьет и матерится как сапожник, курит одну ментоловую сигарету за другой. Она выглядит гораздо моложе, чем измотанный и потрепанный, старый и нищий и лишенный любви Артур Лишь.
Зора обращает к нему свои блестящие глаза.
– Знаешь, я твоя большая поклонница.
– О… – только и может выдавить он.
Они идут вдоль низкой и очень ветхой кирпичной стены, откуда открывается вид на реку и горстку беленых домов.
– Мне безумно понравился «Калипсо». Я просто не могла оторваться. А под конец, сукин ты сын, рыдала, как малое дитя.
– Что ж, пожалуй, я польщен.
– Это такая грустная книга, Артур. Такая невъебически грустная. Когда следующая? – Зора откидывает волосы назад, и они волнами спадают ей на спину.
Сам того не замечая, Лишь стиснул зубы. Внизу двое мальчиков медленно едут верхом по мелководью.
– Все, пора мне заткнуться, – говорит она, сдвинув брови. – Не надо было спрашивать. Не мое дело.
– Нет-нет, – говорит Артур. – Ничего. Я написал новый роман, но в издательстве он никому не понравился.
– Как это?
– Они его не приняли. Отказались печатать. Помню, когда я подписал контракт на первую книгу, главред пригласил меня к себе в офис и произнес целую речь о том, что пусть платят они немного, зато их издательство – это семья, и теперь я член этой семьи, и что они вкладываются не в одну мою книгу, а во всю карьеру. Это было всего пятнадцать лет назад. И тут бац – меня отфутболили. Вот тебе и семья.
– Очень похоже на мою семью. А о чем этот твой роман? – Заметив выражение его лица, она быстро добавляет: – Артур, надеюсь, ты понимаешь, что можешь меня послать?
У него есть правило: до публикации книгу не обсуждать. Люди бывают чертовски небрежны, а ведь даже скептическая мина может нанести такой же урон, что и фраза: «Только не говори мне, что ты теперь с ним!» – оброненная о новом возлюбленном. Но Зоре он почему-то доверяет.
– Мой роман, он… – начинает он и тут же спотыкается о камень на дороге. – Он о престарелом гее, гуляющем по Сан-Франциско. И, ну, знаешь, его… его горестях… – Во взгляде Зоры читается сомнение, и, запнувшись, он смолкает. Впереди военные репортеры кричат что-то по-арабски.
– А этот престарелый гей случайно не белый американец? – спрашивает она.
– Да.
– То есть престарелый белый американец гуляет по Сан-Франциско со своими престарелыми белыми горестями?
– Господи… Ну, вроде того.
– Артур. Ты уж прости, но такой человек не вызывает сочувствия.
– Даже при том, что он гей?
– Даже при том, что он гей.
– Иди ты. – Он сам от себя такого не ожидал.
Она останавливается и с улыбкой тычет его пальцем в грудь:
– Молодчина!
И тут перед ними открывается вид на крепость с зубчатыми башнями на склоне холма. Крепость из обожженной на солнце глины. Невероятно… Почему он не ожидал этого? Почему он не ожидал увидеть Иерихон?[101]
– Это, – объявляет Мохаммед, – древний укрепленный город племя Хадду. «Айт» означает «народ», «Бен» означает «сыны», и «Хадду» – это название рода. Айт-Бен-Хадду. В стенах города до сих пор живут восемь семей.
Почему он не ожидал увидеть Ниневию, Тир, Сидон?
– Извините, – говорит компьютерный гений в отставке. – Вы сказали, восемь семей? Или восемь сынов?
– Да, восемь.
– Семей или сынов?
– Раньше это была деревня, но теперь осталось лишь восемь семей сынов Хадду.
Вавилон? Ур?
– Давайте еще раз. Восемь семей или сынов?
– Да, сыны. Сыны Хадду.
В это мгновение военная репортерша перегибается через древнюю стену, и содержимое ее желудка выплескивается наружу. Чудо глинобитной архитектуры забыто; супруг спешит к ней на помощь, чтобы придержать ее прекрасные волосы. В лучах заходящего солнца на охристые постройки ложатся синие тени, и Лишь невольно вспоминает цветовую гамму родительского дома в ту пору, когда мать помешалась на юго-западном стиле. С того берега реки, подобно воздушной тревоге, доносится клич: призыв к вечерней молитве. Крепость – или ксар – Айт-Бен-Хадду возвышается перед ними в немом безразличии. Муж-репортер сначала ругается с Мохаммедом по-немецки, затем с водителем по-арабски, после чего переходит на французский и заканчивает нечленораздельной тирадой к одним лишь богам. Продемонстрировать навыки владения английскими ругательствами ему так и не удается. Схватившись за голову, репортерша падает на руки водителя, и группу спешно провожают к автобусу. «Мигрень, – шепчет Льюис. – Выпивка, высота. Вот и еще одна вышла из игры». Лишь бросает последний взгляд на древнюю крепость из глины и соломы, которую почти каждый год подновляют, достраивая и перестраивая стены, пострадавшие от дождей, так что от прежнего ксара давно уже не осталось ничего, кроме очертаний. Так в живом организме спустя какое-то время не остается ни одной изначальной клетки. И Артур Лишь не исключение. И что с этим делать? Перестраивать вечно? Или однажды кто-нибудь скажет: «Да ну его на хрен. Пусть падает». И не станет больше Айт-Бен-Хадду. Лишь чувствует, что подобрался к великой истине насчет жизни и смерти и течения времени, древней, но удивительно простой, и тут раздается мужской голос с британским акцентом:
– Слушайте, не хочу быть занозой, но я так и не понял. Сынов…
«Молитва лучше, чем сон» – возвещает муэдзин[102] с вершины минарета, но путешествие лучше, чем молитва, а потому, когда раздается утренний азан, путники уже упакованы в автобус и ждут Мохаммеда, который отправился за военными репортерами. Темный каменный лабиринт отеля с рассветом превращается во дворец, воздвигнутый посреди долины с пышными пальмами. На крыльце, поймав цыпленка ярко-оранжевого окраса (полученного искусственным или сверхъестественным путем), хихикают двое маленьких арабчат. Гневно, возмущенно, непрерывно пищит цыпленок, а они знай себе потешаются и показывают его навьюченному поклажей Артуру Лишь. В автобусе Лишь садится возле скрипачки-кореянки и ее кавалера – профессиональной модели; мальчик с обложки обращает к нему полные недоумения голубые глаза. Что любит мальчик с обложки? Льюис и Зора сидят вместе и над чем-то хохочут. Возвращается Мохаммед; военные репортеры еще не оправились, докладывает он, и поедут на более позднем верблюде. Заржав, автобус пускается в путь. Приятно знать, что всегда есть более поздний верблюд.
Дальше – драмаминовый[103] кошмар: маршрутом горького пропойцы автобус едет в гору, на каждом витке дороги – волшебное сияние сувенирных жеод[104]; завидев их, вскакивает на ноги и несется к дороге мальчишка, держа в вытянутой руке жеоду, выкрашенную в фиолетовый цвет, но, подняв облако пыли, они проезжают мимо. Тут и там – ксары из глины, в каждом – исполинская деревянная дверь (для ослов, поясняет Мохаммед), а в ней – другая дверь, поменьше (для людей), при этом ни ослов, ни людей нигде не видно. Только бесплодные горы с редкими порослями акации. Пассажиры спят или тихо переговариваются, глядя в окно. Его соседи беспрестанно шепчутся, и, чтобы не мешать им, он уходит в конец салона. Зора жестом приглашает его сесть рядом с собой.
– Знаешь, что я решила? – строго спрашивает она, будто призывая к порядку участников собрания. – Насчет полтинника. Две вещи. Первое: на хуй любовь.
– И как это понимать?
– А так, что я ее бросаю. Курить же я бросила, значит, смогу бросить и любовь. – Он красноречиво смотрит на пачку ментоловых сигарет, торчащую из ее сумочки. – Что? Я уже несколько раз бросала! В нашем с тобой возрасте влюбляться опасно.
– Льюис уже разболтал всем мой возраст?
– А как же! С наступающим, дорогой! Вместе отправимся на свалку. – Она в экстазе от того, что их дни рождения следуют один за другим.
– Хорошо, после пятидесяти никакой любви. Вообще-то так даже лучше. Может, я наконец стану больше писать. А что еще ты решила?
– Ну, это все связано.
– Ясно, выкладывай.
– Разжиреть.
– Хм…
– На хуй любовь, и начинаем нагуливать жир. Как Льюис.
– Кто, я? – оборачивается Льюис.
– Ты, ты! – говорит Зора. – Посмотри, как тебя разнесло!
– Зора! – восклицает Лишь.
Но Льюис только смеется, похлопывая обеими руками по своему необъятному пузу.
– Вот умора, правда же? – говорит он. – Каждое утро я смотрю в зеркало и покатываюсь со смеху. И думаю: неужели это я? Заморыш Льюис Делакруа?
– В общем, вот и весь план, – говорит Зора. – Ну что, ты со мной?
– Но я не хочу толстеть, – говорит Лишь. – Как бы глупо и тщеславно это ни звучало.
– Артур, – говорит Льюис, придвигаясь поближе. – Тебе предстоит кое-что для себя решить. Все эти тощие мужчины с усами… Ты только представь, сколько нужно морить себя голодом и ходить по спортзалам, сколько нужно усилий ради того только, чтобы втиснуться в костюм, который ты носил в тридцать лет! И главное, зачем? Все равно ты скукоженный старик. Ну его на хрен! Кларк всегда говорил: можно быть худым, а можно – счастливым. И, Артур, я уже пробовал быть худым.
Кларк – это его муж. Да-да, они Льюис и Кларк[105]. И до сих пор считают, что это уморительно. Уморительно!
Зора кладет руку ему на плечо.
– Давай, Артур. Решайся. Будем толстеть вместе. Все лучшее впереди.
Тут в передней части салона начинается какая-то возня: скрипачка подходит к Мохаммеду, и они о чем-то шушукаются. Мальчик с обложки жалобно стонет со своего места у окна.
– Неужели еще один? – сокрушается Зора.
– А знаете, – говорит Льюис. – Я даже удивлен, что он продержался так долго.
* * *
Итак, из девяти верблюдов, пересекающих Сахару, заняты только четыре. Мальчику с обложки стало так дурно, что его оставили в Мхамиде, городке на границе с пустыней, а скрипачка не пожелала его покидать. «Он поедет на более позднем верблюде», – сказал Мохаммед, когда остальных усадили в седла. В несколько рывков животные поднялись на ноги, выстроились караваном – четверо с ношей, пятеро порожняком – и, отбрасывая длинные тени, двинулись через пустыню. «И, увидев такое, кто-то еще верит в бога?» – дивился Лишь, разглядывая этих нелепых созданий с перчаточными куклами вместо голов, тюками сена вместо туловищ и цыплячьими ногами. До дня рождения Зоры осталось два дня; до его собственного – три.
– Это не день рождения, – кричит Лишь, пока они ритмично удаляются в закат. – А детектив Агаты Кристи!
– И кто же следующая жертва? – спрашивает Льюис. – Спорим, я? Откину копыта прямо сейчас. На этом верблюде.
– Я ставлю на Джоша. – Британский компьютерный гений.
– А теперь не хочешь поговорить о Фредди?
– Не особо. Я слышал, свадьба была очень милой.
– А я слышал, что в ночь перед свадьбой Фредди…
– Заткните свои сраные варежки! – орет Зора откуда-то сзади. – Наслаждайтесь сраным закатом на своих сраных верблюдах! О господи!
А ведь и правда: оказаться здесь – настоящее чудо. Не потому, что их не сломили ни алкоголь, ни гашиш, ни мигрени. Нет-нет, вовсе не поэтому. А потому, что их не сломила жизнь с ее унижениями, и разочарованиями, и расставаниями, и упущенными возможностями, с ее плохими отцами, и плохими работами, и плохим сексом, и плохими наркотиками, с ее ошибками, и промахами, и подводными камнями, потому что они дожили до пятидесяти и до этого мгновения: до сугробов глазури, до гор золота, до маленького столика на гребне дюны с оливками, и питой, и бутылкой вина в ведерке со льдом, до заката, который дожидается их терпеливее любого верблюда. Так что да. Всякий закат, а этот в особенности, требует, чтобы вы заткнули свои сраные варежки.
Они в молчании покоряют дюну. Наконец Льюис замечает, что сегодня у них с Кларком двадцатая годовщина, но сотовой связи тут, разумеется, нет, поэтому со звонком придется подождать до Феса.
– Но в пустыне ведь есть вайфай, – говорит Мохаммед.
– Как, неужели? – удивляется Льюис.
– Конечно, повсюду, – кивает он.
– А, ну тогда хорошо.
Мохаммед поднимает указательный палец.
– Проблема только в пароле.
По рядам бедуинов прокатывается смех.
– Уже второй раз на это клюю, – говорит Льюис, а потом показывает куда-то рукой.
Проследив за его жестом, Лишь замечает двух мальчишек-погонщиков возле стола с угощениями. Обняв друг друга за плечи, они сидят на песке и любуются закатом. Дюны окрашиваются в те же охристо-аквамариновые тона, что и дома Марракеша. Двое мальчишек обнимают друг друга за плечи. Это так непривычно. Лишь становится грустно. В его мире гетеросексуалы так не делают. Как не могут два гея пройтись за руку по улицам Марракеша, так не могут, думает он, два натурала, два лучших друга пройтись за руку по улицам Чикаго. Они не могут сидеть на песке, как эти подростки, и в обнимку смотреть на закат. Эта мальчишеская любовь Тома Сойера к Гекльберри Финну.
Палаточный лагерь – просто сказка. По центру: кострище с сучковатыми ветвями акации, вокруг него разложены подушки, от них восемь ковровых дорожек ведут к восьми парусиновым шатрам, а в каждом шатре – несмотря на внешнее сходство с палаткой для выездных проповедей – кроется страна чудес: кованая кровать с покрывалом, расшитым кусочками зеркал, лампы с чеканкой на прикроватных тумбочках, раковина и стыдливо притулившийся за ширмой унитаз, настенное зеркало и трюмо. Лишь переступает порог и дивится: кто натер эти зеркала? Кто натаскал воды и прибрался в туалете? И если уж на то пошло: кто привез сюда кованые кровати, подушки и ковры для таких баловней, как он? Кто сказал: «Им, наверное, понравится покрывало с кусочками зеркал»? На тумбочке: стопка книг на английском, включая детектив о Пибоди и опусы трех чудовищных американских писателей; подобно наибанальнейшему знакомому, который, повстречавшись нам на закрытой вечеринке, разбивает наше представление не только об изысканности вечеринки, но и о нашей собственной, это трио словно бы говорит ему: «А-а, вас, значит, тоже пригласили?» А по соседству с ними: последнее творение Финли Дуайера. Здесь, посреди Сахары, возле его кованой кровати. Ну спасибо, жизнь!
На севере: злобным рыком верблюд провожает день.
На юге: Льюис вопит, что у него в постели скорпион.
На западе: звон посуды, пока бедуины накрывают на стол.
И снова на юге: Льюис кричит, что все в порядке, это всего-навсего скрепка.
На востоке: подает голос британский компьютерный гений: «Ребята? Что-то мне нехорошо».
Итак, их осталось четверо: Лишь, Льюис, Зора и Мохаммед. После ужина они сидят вокруг костра и в задумчивом молчании допивают белое вино; Мохаммед курит сигарету. Или это что-то другое? Вскоре Зора встает и говорит, что идет спать, чтобы в день рождения быть свежей и красивой, всем спокойной ночи, и вы только посмотрите на эти звезды! Мохаммед растворяется во мраке, и в потрескивающей тишине остаются только Льюис и Лишь.
– Артур, – говорит Льюис, откинувшись на подушки. – Я рад, что ты с нами поехал.
Лишь вдыхает ночной воздух. Над ними в плюмаже дыма раскинулся Млечный Путь.
– С годовщиной, – говорит он, глядя на Льюиса при свете костра.
– Спасибо. Мы с Кларком разводимся.
– Что? – Лишь приподнимается на локтях.
Льюис пожимает плечами.
– Мы уже давно решили, пару месяцев назад. Я все ждал удобного случая, чтобы тебе рассказать.
– Так, погоди-погоди! Что происходит?
– Тише ты, Зору разбудишь. И этого… Ну, как его. – Льюис берет бокал и подползает к Лишь. – Ты, наверное, помнишь, как мы с Кларком познакомились. В художественной галерее в Нью-Йорке. И какое-то время у нас были отношения на расстоянии, а потом я предложил ему переехать ко мне в Сан-Франциско. Мы были в задней комнате «Арт-бара» – помнишь, там еще кокс продавали – на диванчиках, и Кларк сказал: «Хорошо, я перееду к тебе в Сан-Франциско. Но только на десять лет. Через десять лет мы расстанемся».
Лишь беспомощно озирается по сторонам.
– Ты мне этого не рассказывал!
– Да, так и сказал: «Через десять лет мы расстанемся». А я ответил: «Ну, это еще не скоро!» На том и порешили. Его ничуть не беспокоило, что нужно увольняться с работы и выезжать из квартиры, где у него была регулируемая арендная плата[106], ему не жалко было выбрасывать кастрюли. Он просто переехал ко мне и заново построил свою жизнь. Вот так вот запросто.
– А я ничего этого не знал. Я думал, у вас, ребята, любовь до гроба.
– Если честно, я и сам так думал.
– Извини. Просто я в шоке.
– Так вот, прошло десять лет, и он сказал: «Давай съездим в Нью-Йорк». И мы поехали. О том нашем уговоре я и думать забыл. Все было так хорошо, понимаешь? Мы были очень, очень счастливы вместе. У нас был свой отель в Сохо над магазином китайских светильников. И вот в Нью-Йорке он говорит: «Давай сходим в “Арт-бар”». Ну, мы взяли такси и поехали в «Арт-бар». Сели в задней комнате, заказали выпить. И он говорит: «Ну что, Льюис, десять лет прошло».
– Так и сказал? Мол, срок годности истек?
– Это же Кларк, что с него взять. Лучше бы этикетки на продуктах читать научился. Но так все и было. Он сказал, что десять лет прошло. А я ему: «Ты серьезно? Ты что, меня бросаешь?» «Нет, – говорит. – Хочу остаться».
– Ну слава богу.
– «Еще на десять лет».
– Льюис, это просто безумие! Зачем в отношениях таймер? Это тебе не духовка. Надо было залепить ему пощечину. Или он так над тобой подтрунивал? Вы ничего случайно не приняли?
– Да нет же. Ты, наверное, просто не видел его с этой стороны. Он тот еще неряха, вечно оставляет белье на полу в ванной. Но, знаешь, у него есть и другая, очень практичная сторона. Это он установил солнечные батареи.
– Я всегда считал Кларка очень уравновешенным. А это… Это какой-то невроз.
– Думаю, он бы сказал, что поступает практично. Дальновидно. В общем, не важно. И я ему говорю: «Что ж, хорошо. Я тоже тебя люблю, давай выпьем шампанского». И выкинул все это из головы.
– А потом, еще через десять лет…
– Да, несколько месяцев назад. Мы были в Нью-Йорке, и он сказал: «Давай сходим в “Арт-бар”». Там все изменилось, как ты знаешь. Теперь это приличное заведение; то старое панно с «Тайной вечерей» убрали, и даже кокс там уже не продают. И слава богу, правда? В общем, сели мы в задней комнате. Заказали шампанского. И он говорит: «Льюис». Я знал, что будет дальше. И говорю: «Прошло десять лет». А он говорит: «И что ты думаешь?» Мы долго сидели и молча пили шампанское. И наконец я говорю: «Милый, по-моему, пора».
– Льюис. Льюис.
– А он говорит: «По-моему, тоже». И мы обнялись. На диванчике в задней комнате «Арт-бара».
– У вас что, были размолвки? Ты мне не рассказывал.
– Да нет же, все было прекрасно.
– Так почему же вы решили, что пора? Почему опустили руки?
– Помнишь, пару лет назад мне предложили работу в Техасе? В Техасе, Артур! Зато с хорошей зарплатой. И Кларк сказал: «Я вижу, для тебя это важно, и я тебя поддерживаю, давай сгоняем в Техас, я там никогда не был». И мы сели в машину и поехали в Техас. И прекрасно провели четыре дня в дороге. Чтобы не было скучно, каждый из нас придумал по правилу, которое мы оба должны были соблюдать. Я придумал, что мы должны ночевать только в мотелях с неоновой вывеской. А Кларк – что мы должны есть только блюдо дня, а если его не будет, ехать дальше. Боже, Артур, чего я только не ел! Один раз даже запеканку с крабом. И это в Техасе!
– Я помню эту историю. Я думал, поездка вам понравилась.
– Это было лучшее наше автопутешествие; мы прохохотали всю дорогу, пока разыскивали эти неоновые вывески. А когда приехали, он поцеловал меня на прощание и сел в самолет, а я остался в Техасе на четыре месяца. И я подумал: «А что, было здорово».
– Ничего не понимаю. Вам же было так хорошо вместе…
– Да. Но мне и в Техасе было хорошо. Жил себе в уютном домике, спокойно работал. Тогда-то я и подумал: «А что, было здорово. Хороший был брак».
– Но вы же расстались! Значит, что-то не задалось. Что-то пошло не так.
– Нет! Нет, Артур, совсем наоборот. Говорю тебе, это победа. Двадцать лет радости, и дружбы, и поддержки – это победа. Двадцать лет чего угодно с другим человеком – это победа. Если музыкальная группа вместе двадцать лет – это чудо. Если комедийный дуэт вместе двадцать лет – это триумф. Разве этот день плохой из-за того, что через час он закончится? Разве солнце плохое из-за того, что через миллиард лет его не станет? Конечно нет, ведь это же, мать его, солнце! То же самое и с семейной жизнью. Не в нашей природе навсегда связывать себя с одним человеком. Сиамские близнецы – это трагедия. Двадцать лет, а напоследок – веселая поездка. И я подумал: «А что, было здорово. Закончим, пока все идет хорошо».
– Льюис, так нельзя. Вы же Льюис и Кларк, мать вашу, Льюис и Кларк! И как после такого верить, что у геев могут быть долговечные отношения?
– Ох, Артур. Разве двадцать лет – это мало? Разве это не долговечные отношения? И к тому же при чем тут ты?
– Просто, по-моему, вы совершаете ошибку. Пожив самостоятельно, ты скоро убедишься, что лучше Кларка никого нет. То же самое случится и с ним.
– В июне у него свадьба.
– Да чтоб вас всех!
– Кстати, своего жениха он встретил во время той нашей поездки. Милый юноша из Марфы, художник. Мы вместе с ним познакомились. Они с Кларком подружились, а потом у них завязался роман. Он чудесный. Просто замечательный.
– Только не говори, что пойдешь на свадьбу.
– Я буду читать на свадьбе стихи.
– Да ты рехнулся! Конечно, мне очень жаль, что вы расстались. У меня сердце разрывается на части. И я не проецирую это на себя. Я желаю тебе добра. Но ты не в своем уме. Неужели ты правда собрался на свадьбу? Неужели правда думаешь, что все хорошо? Ты просто на стадии отрицания. Ты разводишься с человеком, с которым прожил двадцать лет. И это грустно. И никто не запрещает тебе грустить.
– Я не спорю, что можно жить вместе до самой смерти. Некоторые люди всю жизнь сидят за одним и тем же ветхим столом, потому что он принадлежал их бабушке, хотя его уже десять раз чинили и он давно отжил свой век. Именно так города становятся призраками. Дома забиваются хламом. А люди стареют.
– У тебя уже кто-то есть?
– У меня-то? Знаешь, пожалуй, я останусь холостяком. Пожалуй, мне это больше подходит. И, пожалуй, так было всегда, только в молодости я слишком боялся одиночества, а теперь больше не боюсь. И у меня ведь есть Кларк. Я всегда могу позвонить Кларку и обратиться к нему за советом.
– Даже после всего, что случилось?
– Да, Артур.
Они еще некоторое время беседуют, и вот уже совсем стемнело. «Артур, – говорит Льюис после небольшой паузы, – ты слышал, что в ночь перед свадьбой Фредди закрылся в ванной?» Но Лишь его не слушает; он вспоминает, какие Льюис и Кларк устраивали ужины, какие закатывали вечеринки на Хэллоуин, как стелили ему потом на диване, чтобы он не ехал домой пьяный. «Спокойной ночи, Артур». Отсалютовав старому другу, Льюис исчезает во тьме, и Артур Лишь остается один у тлеющих углей. Краем глаза он замечает пляшущий огонек: сигарета Мохаммеда, который застегивает палатки, будто укладывая маленьких детей. Из дальней палатки раздаются стоны компьютерного гения. Из темноты доносится возмущенный рык верблюда, а затем – успокаивающий голос погонщика. Неужели они спят вповалку с животными? Неужели они спят под этим несравненнейшим пологом, под этой величественной кровлей[107], под этим дивным покрывалом с кусочками зеркал – звездным небом? Эй, смотри-ка: сегодня звезд хватит на всех, но есть среди них и фальшивые монеты – искусственные спутники. Он тщетно тянет руку к падающей звезде. Наконец он идет спать. Но и в постели никак не выкинет из головы слова Льюиса. Не о десяти годах, а о том, чтобы жить в одиночестве. Он вдруг понимает, что даже после Роберта никогда по-настоящему не позволял себе остаться одному. Взять хотя бы его нынешние странствия: сначала Бастьян, потом Хавьер. К чему эта неизбывная потребность в зеркале-мужчине? Чтобы видеть в нем отражение Артура Лишь? Конечно, он в трауре: по Фредди, по своей карьере, по отвергнутой книге, по утраченной молодости, – так почему бы не завесить зеркала, почему бы не затянуть сердце тканью, чтобы оплакать потери? Почему бы хоть раз не побыть одному?
Засыпая, он тихо смеется. Побыть одному: даже представить трудно. Это все равно что жить на необитаемом острове: безумно страшно и совсем не по-лишьниански.
Песчаная буря начинается только к утру.
Лишенный сна, Лишь ворочается в постели, и перед его внутренним взором появляется его роман. «Свифт». Ну и заглавие. Ну и ерунда. Где его редактор, когда она так нужна? Редакторесса, как он ее называл: Леона Флауэрс. Давно перешла куда-то в ходе карточных игр издательских домов. Он никогда не забудет, как ловко прореживала она велеречивую прозу его первых романов, превращая их в настоящие книги. Какая умница, какая искусница, а как уговаривала его на сокращения! «Этот абзац такой красивый, такой особенный, – говорила она, прижимая наманикюренные ручки к груди, – что я ни с кем не хочу им делиться!» И где же Леона теперь? В каком-нибудь небоскребе, оттачивает старые приемчики на каком-нибудь новом протеже: «Думаю, отсутствие этой главы отзовется во всем романе». Что бы она ему сказала? Что Свифт не внушает симпатии. Все об этом твердят; страдания его героя никого не трогают. Но как же сделать, чтобы люди ему симпатизировали? Это все равно что добиваться симпатии самому. Но если ты и в пятьдесят никому не нравишься, сонно думает Лишь, значит, поезд ушел.
* * *
Песчаная буря. Месяцы планирования, дни в пути, разорительные траты, а в итоге: сидеть взаперти, пока ветер, точно погонщик, нахлестывает шатры. Все трое (Зора, Льюис, Лишь) собрались в просторном обеденном шатре, где жарко, как верхом на верблюде, и так же пахнет; из тяжелой входной двери торчат клочья конского волоса: как и трех наших странников, эту дверь не мешало бы помыть. Один только Мохаммед как огурчик, хотя буря застала его на рассвете (ибо он и правда спал под открытым небом), и ему пришлось срочно бежать в укрытие. «Ну что ж, – говорит Льюис за чашкой кофе с медовой лепешкой, – нам выпала возможность открыть для себя что-то новое». В ответ Зора угрожающе заносит нож для масла; завтра у нее день рождения. Но ничего не поделаешь: нужно покориться стихии. Остаток дня они пьют пиво и играют в карты, причем Зора разбивает наголову обоих.
– Я с ней еще поквитаюсь, – грозится Льюис, когда они расходятся по шатрам. Наутро оказывается, что буря, подобно докучливому гостю, никуда не торопится, а Льюису впору быть пророком: болезнь подкосила и его. И вот он лежит под расшитым кусочками зеркала покрывалом, потеет и стонет: «Убейте меня, убейте», – пока его шатер трясется от ветра. Мохаммед – в лиловом одеянии – с прискорбием сообщает: «Буря только в эти дюны. Уезжаем из пустыни, и ее нет». Он предлагает погрузить Льюиса с Джошем в джипы и вернуться в Мхамид, где хотя бы есть гостиница с баром и телевидением; там их ждут военные репортеры, скрипачка и мальчик с обложки. С минуту Зора молча смотрит на него поверх изумрудного платка, закрывающего половину ее лица, а затем срывает платок и объявляет: «Нет, сегодня у меня, блин, день рождения! Остальных везите в Мхамид. А мы с Артуром поедем развлекаться. Мохаммед! Удивите нас!»
Удивитесь ли вы, узнав, что в Марокко есть швейцарский горнолыжный курорт? Именно туда и повез их Мохаммед. Оставив песчаную бурю позади, они проезжают глубокие каньоны, где высечены в скалах отели, а неподалеку, на берегу реки, разбили лагерь немецкие туристы с фургончиками; деревни, где, как в народных сказках, живут одни овцы; водопады и водосливы, медресе́[108] и мечети, касбы и ксары и один маленький городок (остановка на обед), где в двух шагах от их столика женщина в бирюзовых одеждах просит у резчика по дереву опилки, потому что ее кошка пометила крыльцо, а по соседству собирается толпа мальчишек – не на занятия (как может показаться), а (судя по возбужденным крикам) на трансляцию футбольного матча; едут они по известняковым плато и по кольцам дорог, нанизанным, точно ярусы зиккурата, на горы Среднего Атласа, – и вот уже на смену пальмам приходит холодный хвойный лес, и Мохаммед говорит: «Осторожно, звери», и сперва они ничего не видят, а потом Зора с воплем указывает на деревянную площадку, откуда на них невозмутимо, будто компания за чаепитием (или за dе́jeuner sur l’herbe[109]), взирают берберские обезьяны, или, по выражению Зоры: «Макаки!» Их компания осталась в Мхамиде, а сами они уже устроились в кожаных креслах с бокалами местного марка[110] под хрустальной люстрой, перед хрустальной панорамой в ароматном полумраке бара горнолыжного курорта. На ужин они ели пирог с голубиным мясом. Мохаммед сидит за барной стойкой с банкой энергетика. Свои берберские одежды он сменил на джинсы и рубашку-поло. Сегодня день рождения Зоры; через два часа, в полночь, – день рождения Лишь. Довольство и впрямь подоспело на более позднем верблюде.
– И все это, – говорит Зора, откидывая волосы назад, – все эти разъезды только для того, чтобы пропустить свадьбу бывшего?
– Он мне не бывший. И скорее чтобы избежать неловкости, – заливаясь краской, отвечает Лишь. Они здесь единственные посетители. Два бармена в полосатых водевильных жилетах, будто разыгрывая комическую сценку, шепотом спорят, кому идти на перекур. Лишь рассказывал Зоре о своих странствиях, и шампанское развязало ему язык.
На Зоре золотой брючный костюм и бриллиантовые серьги, от нее вкусно пахнет духами; они уже успели заселиться в номера и привести себя в порядок. Собираясь в поездку, эти вещи она брала явно не для него. Но другой компании не предвидится. На нем, разумеется, синий костюм.
– Неплохое пойло, – говорит Зора, разглядывая бокал. – Что-то похожее гнала моя грузинская бабушка.
– Просто я решил, что лучше уехать, – продолжает Лишь. – Заодно верну к жизни роман.
– Меня тоже бросили, – говорит она, потягивая марк и глядя в окно.
Смысл сказанного доходит до него не сразу.
– Что? А, нет, что ты! Он меня не бросал…
– Здесь должна быть Джанет. – Зора закрывает глаза. – Артур, ты здесь, потому что у нас была лишняя путевка, и Льюис обещал позвать друга; поэтому ты здесь. Нет, с тобой, конечно, чудесно. Ты последний остался в строю. Слабаки хреновы! И что это с ними такое? Я рада, что ты здесь, честно. Но не раздумывая променяла бы тебя на нее.
Лишь только теперь понял, что Зора – лесбиянка. Может, он и правда плохой гей?
– Что у вас случилось? – спрашивает он.
– А ты как думаешь? – говорит Зора, продолжая потягивать марк. – Она влюбилась. И потеряла голову.
Лишь бормочет соболезнования, но Зора ушла в себя и ничего не слышит. Высокий бармен, похоже, выиграл и широкими шагами идет на балкон. Его низкий товарищ – лысый, за исключением небольшого оазиса на макушке, – тоскливо смотрит ему вслед. За окном: Гштад или, возможно, Санкт-Мориц[111]. Темные лесистые склоны со спящими обезьянами, каток у подножия башни в романском стиле, холодное черное небо.
– Она заявила, что встретила любовь своей жизни, – говорит Зора, не отрывая взгляда от окна. – Об этом складывают стихи, рассказывают истории, сицилийцы называют это ударом молнии. Но мы-то знаем, что так не бывает. В любви нет ничего пугающего. Любить значит выгуливать ебучую собаку, чтобы выспался твой любимый человек, чистить унитаз без претензий, вместе считать налоги. Любить значит иметь в жизни союзника. Любовь – это не пожар и не молния. Это то, что у Джанет было со мной. Так ведь? Но вдруг она права, Артур? Вдруг сицилийцы правы? Вдруг любовь – это ураган? То чувство, которое я никогда не испытывала. А ты, Артур? Испытывал ли его ты?
У Артура Лишь перехватило дыхание.
– Вдруг однажды ты встретишь кого-нибудь, – продолжает она, поворачиваясь к нему лицом, – и после этой встречи уже не сможешь быть ни с кем другим? Не потому, что другие хуже выглядят, или слишком много бухают, или у них проблемы в постели, или им нужно расставлять книги в алфавитном порядке, или загружать посуду в посудомойку каким-то хитровыебанным способом, с которым ты не можешь смириться. А потому, что тебе нужен один только этот человек. Как у Джанет с той женщиной. Если ты его не встретишь, то всю жизнь будешь думать, что любовь – это вещь приземленная, но если встретишь – господь тебе в помощь! Потому что тогда: ба-бах – и тебе пиздец. Как моей Джанет. Она разрушила нашу жизнь! Но что, если все это по-настоящему? – Зора сжимает подлокотники.
– Зора, я тебе очень сочувствую…
– У вас с Фредди так же было?
– Я… я…
– Мозг вечно все путает, – говорит она, снова глядя на темный пейзаж за окном. – Время, людей, места: путает-путает-путает. Обманщик мозг.
Это безумие, безумие ее возлюбленной, озадачило ее, и ранило, и выбило из колеи. И все же в ее словах – о том, что наш мозг – обманщик, – есть доля истины; он по себе знает. Конечно, его никогда не захлестывало такое всепоглощающее безумие, но в попытке забыть кое-какие вещи, которые внушил ему мозг, он объехал уже полсвета. Нельзя доверять своему сознанию, это факт.
– Что такое любовь, Артур? – спрашивает она. – Что это такое? Тихие радости, которые мы восемь лет дарили друг другу? Или удар молнии? Помутнение рассудка, которое погубило мою девочку?
– Не очень похоже на счастье, – вот все, что он может сказать.
Зора качает головой.
– Артур, счастье – это херня. Послушай человека, которому уже двадцать два часа как пятьдесят. Моя личная жизнь – очередное тому подтверждение. В полночь ты все поймешь. – Похоже, она пьяна. На балконе дрожащий от холода бармен курит так, будто это последняя сигарета в его жизни. Понюхав бокал, Зора говорит: – Моя грузинская бабушка гнала что-то подобное.
«Тихие радости? Тихие радости?» – звучит у него в ушах.
– Да. – Воспоминание вызывает у нее улыбку, и она снова нюхает бокал. – Пахнет, как чача моей бабушки.
Похоже, чача была лишней: к половине двенадцатого именинница едва стоит на ногах. Лишь с Мохаммедом ведут ее, пьяную и довольную, наверх и укладывают в постель, а она улыбается и рассыпается в благодарностях. Она что-то говорит Мохаммеду по-французски, а тот утешает ее сначала на французском, потом на английском. «Артур, как глупо вышло, прости», – говорит она, пока Лишь поправляет ее одеяло. Когда он закрывает за собой дверь, до него вдруг доходит, что пятидесятилетие он встретит один.
А впрочем, не совсем.
– Мохаммед, сколько вы знаете языков?
– Семь! – радостно отвечает Мохаммед, шагая к лифту. – Я начал учить в школе. В городе над моим арабским смеются, он старомодный. Я ходил в берберская школа, поэтому мне приходится догонять. Еще я учусь у туристов! Простите, я пока не силен в английском. А вы сколько знаете?
– Семь? Ну и ну! – Кабина лифта целиком покрыта зеркалами, и, когда двери закрываются, его взгляду предстает странная картина: бесконечные Мохаммеды в красных рубашках-поло, а рядом – бесконечные копии его отца в пятьдесят лет. – Я… Я знаю английский и немецкий.
– Ich auch![112] – Далее в переводе с немецкого: – Я два года прожил в Берлине! Какая у них там скучная музыка!
– Я оттуда прибывал! Он превосходен, ваш немецкий!
– Ваш тоже ничего. Так, после вас, Артур. Готовы встретить день рождения?
– Я испуган возрастом.
– Не бойтесь. Пятьдесят лет – это пустяк. Вы человек красивый, здоровый и богатый.
Лишь хочет сказать, что он вовсе не богатый, но вовремя себя останавливает.
– Как много годов вам?
– Мне пятьдесят три. Видите, сущий пустяк. Давайте закажем вам бокал шампанского.
– Я испуган старостью. Я испуган одиночеством.
– И напрасно. – Мохаммед подзывает барменшу, заступившую на вахту в их отсутствие, и говорит ей что-то на марокканском диалекте арабского. Возможно, он просит налить шампанского американцу, которому только что стукнуло пятьдесят. Барменша – ростом она с Мохаммеда, волосы забраны в хвост – широко улыбается Артуру Лишь и, подняв брови, говорит что-то по-арабски. Мохаммед смеется; Лишь стоит с идиотской улыбочкой.
– С днем рождения, сэр, – говорит она по-английски, наливая ему французского шампанского. – Это за счет заведения.
Лишь предлагает Мохаммеду выпить, но гид не позволяет себе ничего крепче энергетиков. Не из-за ислама, поясняет он; он агностик.
– А потому, что от алкоголя мне сносит крыша. Конкретно сносит! Но я курю гашиш. Не хотите?
– Нет, нет, не сегодня. От него мне сносит крышу. Мохаммед, вы правда туристический гид?
– Я должен зарабатывай для жизнь, – отвечает Мохаммед, соскальзывая вдруг на примитивный английский. – Но на самом деле я писатель. Как вы.
Когда только он научится понимать этот мир? И находить выход из подобных положений. Где тут дверь для ослов?
– Мохаммед, для меня большая честь быть с вами в этот вечер.
– «Калипсо» – великая книга. Конечно, я читал по-французски. Для меня тоже честь быть с вами. С днем рождения, Артур Лишь.
На Таити сейчас полдень, и Том с Фредди, должно быть, уже собирают чемоданы. Солнце колотит по пляжу, как по наковальне, а молодожены складывают свои льняные рубашки, брюки и пиджаки – или, что более вероятно, этим занимается Фредди. Фредди всегда собирал вещи, пока Лишь прохлаждался на диване. «Ты все делаешь наспех и неаккуратно, – сказал Фредди в то последнее утро в Париже. – Я не хочу, чтобы вся одежда помялась. Вот, смотри». Фредди разложил пиджаки с рубашками на постели, как одежду для гигантской бумажной куклы, сверху положил свитера и брюки и свернул все это в большой ком. Подбоченясь, он торжествующе улыбнулся (кстати, все действующие лица в этой сцене абсолютно голые). «И что теперь?» – поинтересовался Лишь. Фредди пожал плечами: «Теперь мы просто кладем это в чемодан». Но чемодан никак не хотел глотать такую большую пилюлю, как бы Фредди его ни уговаривал, и после нескольких неудачных попыток утрамбовать гигантский ком он сделал из него два кома поменьше, которые идеально поместились в чемодан и сумку. Победитель хвастливо поглядел на партнера, чей стройный силуэт мужчины чуть за сорок вырисовывался на фоне окна, куда стучался весенний парижский дождь. На что тот ответил: «Мистер Пелу, вы сложили всю нашу одежду; скажите, в чем же мы будем ходить?» Фредди в ярости набросился на него, и через полчаса они всё еще были голыми.
Да, чемоданы определенно собирает мистер Пелу.
Видно, поэтому он не позвонил Лишь и не поздравил его с днем рождения.
Артур Лишь стоит на балконе швейцарского отеля, а перед ним простирается замерзший город. Кованая балюстрада, как это ни абсурдно, украшена кукушками с острыми оттопыренными клювами. На дне его бокала: шампанского – с монетку. Теперь в Индию. Работать над романом, который нужно не просто подшлифовать, а разбить вдребезги и заново собрать по кусочкам. Работать над скучным, эгоистичным, жалким, смехотворным Свифтом. Тем самым, которому никто не сочувствует. Теперь ему пятьдесят.
Всех нас, бывает, охватывает грусть, когда надо бы ликовать; ложка дегтя найдется в каждой бочке меда. Разве римские полководцы не брали рабов на победные шествия, чтобы те напоминали им, что они тоже когда-нибудь умрут? Даже ваш рассказчик наутро после одного, казалось бы, счастливого события сидел на краешке кровати и дрожал как осиновый лист (близкий человек: «Как бы мне хотелось, чтобы ты сейчас не плакал»). Разве маленькие дети, проснувшись поутру и услышав: «Теперь тебе пять!» – разве они не воют при мысли о том, что Вселенная погружается в хаос? Солнце медленно умирает, спиральные рукава галактик рассеиваются, с каждой секундой молекулы разлетаются все дальше и дальше, приближая неминуемую тепловую смерть[113]… разве не стоит всем нам выть на звезды?
Но некоторые и впрямь принимают всё слишком близко к сердцу. Чего так переживать из-за какого-то дня рождения?
У арабов есть притча о человеке, который узнал, что за ним идет Смерть, и бежал в Самарру[114]. В Самарре он идет на базар, и там к нему подходит Смерть и говорит: «Знаешь, сегодня я хотела устроить себе выходной. Я уж было махнула на тебя рукой, но как же хорошо, что ты меня нашел!» И забирает его. Загогулистым маршрутом Артур Лишь облетел полсвета, менял рейсы и континенты, словно бы расставляя для врагов ловушки и заметая следы, и в конце концов сбежал в Атласские горы – а Время, оказывается, с самого начала поджидало его тут. На заснеженном горнолыжном курорте. Разумеется, швейцарском. С кукушками. Одним глотком он осушает бокал. «Трудно сочувствовать стареющему белому мужчине».
И в самом деле: даже сам он уже не может сочувствовать Свифту. Подобно тому как в ледяной воде у нас немеет все тело и мы уже не способны чувствовать холод, Артур Лишь онемел от грусти и уже не испытывает жалости. Нет, ему жалко Роберта, который лежит в больнице Сономы с кислородной трубкой под носом. Ему жалко Мэриан, которая, возможно, уже не оправится после перелома бедра. Ему жалко Хавьера с его семейной драмой и даже любимые команды Бастьяна с их трагическими поражениями. Ему жалко Зору и Джанет. Ему жалко своего собрата-писателя Мохаммеда. Расправив длинные крылья альбатроса, его сочувствие облетает весь мир. Но Свифта – это воплощенное эго белого мужчины, эту Медузу Горгону, шагающую по страницам его романа и обращающую слова в камень, – ему жалко не больше, чем себя самого.
Дверь отворяется, и на балкон выходит низенький бармен, у которого кончился перерыв. Показывая на балюстраду с кукушками, бармен обращается к нему на вполне понятном французском (если бы он только понимал французский).
Просто комедия.
Артур Лишь застывает на месте, будто хочет прихлопнуть муху. Только бы не упустить. Сколько всего его отвлекает: Роберт, Фредди, пятьдесят лет, Таити, цветы, да еще бармен почему-то показывает на его рукав – но он не поддается. Только бы не упустить. Комедия. Его мысли, как пучок света, собираются в одной точке. Почему это непременно должен быть щемящий, пронзительный роман? Непременно о стареющем мужчине, который блуждает по городу, скорбя о прошлом и страшась будущего? О всех его унижениях и сожалениях? Об эрозии его души? Почему все должно быть так грустно? На мгновение вся книга предстает перед его внутренним взором, подобно мерцающему замку, который видится обессилевшему путнику в пустыне.
А затем исчезает. Дверь захлопывается; клюв кукушки по-прежнему оттягивает рукав синего пиджака (и через несколько секунд его порвет). Но Лишь ничего не замечает; его занимает только одно. «АХ-ах-ах-ах!» – смеется он своим лишьнианским смехом.
Его Свифт не герой. Он шут.
– Ну что, – шепчет он ночному ветру, – с днем рождения, Артур Лишь.
И кстати: счастье не херня.